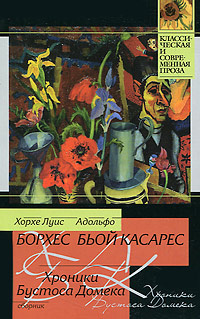Несколько раз тому назад я сделал, наверное, слишком смелое заявление. А именно, обобщив все искусство как таковое (как минимум с эпохи Просвещения) формулой "создание нового и ранее не бывшего", пришел к выводу что такое искусство уже невозможно. Искусство для искусство сделало все, что могло, создало максимально возможное разнообразие инструментов и форм, которые теперь могут сделать из искусства для искусства искусство не только для самого себя (здесь: 1, 2, 3). Сделать ход конем, чтобы искусство стало преобразовывать не только само себя, но и мир вокруг себя... Но это все лирика, и, скорее, мои собственные эпатажные выпады. Но они необходимо, чтобы очертить масштаб фигуры Жан-Люка Годара.
Я не считаю, что этот французский режиссер, один из отцов "новой волны", нуждается в представлении. Один из самых важных, андеграундных во всех возможных оттенках этого слова, многогранный, неоднозначный, сложный, интересный, философствовавший при помощи кино, сделав из кадров слова, а из слов — кадры, серьезно повлиявший на Тарантино, по сути, подаривший большинство его приемов... Это не полный список заслуг творцу, человеку и мыслителю, который продолжил русский авангард уже в новом кинематографе, который поставил планку в фильмовом творчестве настолько высоко, что пока ее никто не переплюнул. Да, возможно, я утрирую, и тут бросается в глаза мое пока еще слабое знакомство с действительно достойным кино. Вот уже с полгода я во многом отказался от современного кино в пользу фильмов вдвое, втрое старше меня, ради гениев по типу того же Годара, Феллини, Пазолини, Трюффо. И пока не пожалел об этом. Но решил сделать одно из немногих исключений из погружения в прошлое, посмотрев фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар". Но этот фильм оставил после просмотра максимально противоречивые ощущения и мысли, о которых я скажу ниже, в небольшой заметке-эссе. В относительно коротком объеме.
Чего я и, думаю, другие ждали от фильма о Годаре? Не имея тут возможности и необходимости создавать биографическую и/или описывающую всю полноту творчества этого режиссера статью, скажу кратко. Все ждали, как минимум, картину о многогранности режиссера, который, несмотря на свою леворадикальную повестку снял фильм "Китаянка". Он, кстати, до сих пор остается одним из моих самых любимых у Годара. Казалось бы, ну и что тут доказывает "Китаянка"? Кино о группке-коммунке нескольких молодых французов, которые читают мягко говоря спорного товарища Мао, а под конец вообще объявляют начало террора. Идеологизированный фильмец по описанию, тем более что в текстах о творчестве Жан-Люка всегда указывается значение "Китаянки" в формировании настроений в ходе парижских событий 1968 года. Если вы до сих пор так думаете, пересмотрите "Китаянку". Начните хотя бы с песни-лейтмотива всей киноленты — "Мао Мао" Клода Шанеса:
"По отношению к героям «Китаянки» Годар сохранял определенную иронию (чего стоит хотя бы звучащая в фильме саркастическая песенка: «Во Вьетнаме гибнут люди (перечисляются еще многие другие события), а я все твержу: Мао, Мао, Мао...»)" (из статьи Александра Тарасова "Годар как Вольтер").
Или вспомните многие максимально не просто ироничные, а критические и осуждающие эпизоды из картины. Как члены коммуны из более богатых городских семей по факту сбросили все бытовые обязанности на девушку из семьи сельских бедняков, как героиня Анна Вяземски случайно (!) убила не того человека, который должен был стать первой жертвой их маоистского террора (с максимально "забавным" или забавным оправданием — читая Мао в оригинале, она не так прочитала номер квартиры жертвы) и т.д. Но все это Годар делает, с одной стороны, как социолог, изучающий, как радикальные идеи дефектно преломляются в среде молодежи столичных буржуа, и что им еще многому придется научиться (если они хотят, чтобы их революция из детской болезни левизны стала серьезной страницей в учебнике по истории из будущего):
"Это — поколение «Красного Мая» до самого «Красного Мая», это — завтрашние парижские бунтари до самого бунта. Вновь, как в «Masculin/féminin», Годар успевает увидеть главное на год раньше... но общее направление уже было указано: самоорганизуйтесь, читайте революционную литературу, учитесь мыслить критически, думать своей головой, подвергайте сомнению авторитеты, переходите, наконец, к активным действиям" (из статьи Александра Тарасова "Годар как Вольтер").
И, с другой стороны, Годар гениально смешивает, фрагментирует и снова собирает саму форму кино как искусства в "Китаянке". Здесь и разрушение четвертой стены, и деление картины на части, постоянные текстовые вставки, создание эффекта неразличения документалистики и художественного жанра, открытое философствование о политике, искусстве, отношениях, коммунизме и терроре, которые одновременно и самокритичны настолько, что преодолевают потенциальную цензуру, и вместе с тем сохраняют свою революционность. В общем Жан-Люк делает с киноискусством такое, что до сих пор со всеми технологиями и техниками не могут преодолеть современные киношники. Именно поэтому его можно назвать в каком-то смысле могильщиком кино:
"Там периодически прямо в сюжетный текст вклинивается съемочная группа, которой герои дают интервью. Рядовой зритель, завсегдатай кинозала, должен просто недоумевать, что же ему показывают: документальный фильм с попытками реконструировать события, или художественный фильм, где персонажи реальных событий приглашены на роли самих себя. Перебивка кадров титрами доводится до крайности: тут уже не законченные фразы, а отрывки их. И фразы эти — все больше революционные тексты, все больше из «цитатника» Мао. Это уже чистая пропаганда — незаконченное действие лучше запоминается («Зейнгарник-эффект»), незаконченный текст больше интригует" (из статьи Александра Тарасова "Годар как Вольтер").
И вообще "Китаянка" — определенное перепрочтение "Бесов", которые, как все прекрасно помнят, более чем критическое по отношению к революционерам произведение...
*Эх, не получается коротки...*
Короче. Все это я к тому, насколько автор глубок, многогранен, интересен. Смотрите хотя бы раннего Годара, в виде той же "Китаянки", "На последнем дыхании", "Мужское/женское" и т. д. Это правда отличное и достойное кино. Про актеров вообще молчу, особенно игру частого гостя в годаровских фильмах — Жан-Пьер Лео. И мы, зрители, хотя бы немного знающие о Годаре, думаем, что в фильме про него будут показаны ну пусть не много, но хотя бы три или две грани личности режиссера. А не одна, и весьма сомнительная. Конечно же, вышло второе.
Да-да, как бы сразу отвечая на вопрос из заголовка заметки ("как и зачем снять фэнтези о Годаре"), можно сказать следующее. Как только вы вместо интересного именно в плане глубины, откровенности и аналитичности кино снимаете массовый фильмец, пусть даже массовый в смысле для масс критиков средней руки с разных фестивалей, под современные тренды, то получается не как у Годара. Даже если весь ваш фильм наполнен приемами Годара. Ничего не имея против Тарантино (он мне нравится, он классный), все-таки, и этот автор, в разы лучше Хазанавичуса, не может раскручивать техники и формы Жан-Люка как сам Жан-Люк. Потому что цели и задачи разные. Так сказать, повесточка, ценности, идеологии. К сожалению. Ну или к счастью. В общем, Годар в фильме, как Че Гевара на майке, стал лейблом. Пусть и торговым знаком "не для всех".
Но "Молодой Годар" не отвратное кино. Оно не плохое. Оно просто не годаровское, раз, и не про Годара, два. Собственно, в оригинале-то название "Le redoutable" ("Грозный"). Притом, как замечает комментатор гораздо больше и глубже знающий, чем я, а именно Вячеслав Корнев (видеолекция про фильм "Молодой Годар". Советую посмотреть и другие ролики про остальные фильмы Годара и не только), "Молодой Годар" не просто экранизация воспоминаний первой жены Жан-Люка, но и специально не биографическое кино. Это как бы представление женской точки зрения на странного и страшного — грозного — Годара. Немного неестественная, однобокая, смешная...
Возможно, это и вправду так. Но у меня есть вопрос, нужен ли такой фильм про Годара? Ведь как нам там предстает Годар? Очень клишированный недореволюционер — кичливый, крикливый, но трусливый. Вспомните эпизод с полицией, когда Годар с Анной проходят мимо копов, он им "с трудом" улыбается, а потом чуть отойдя ругает жену, мол, чего ты, надо было его послать и сказать, чтоб он сдох. Жан-Люк Хазанавичуса постоянно поливает своих друзей дерьмом, издевается и оскорбляет несчастную Анну. Он натурально "токсичный", притом до идиотизма и состояния "мамкин анархист" (примеры: эпизод в кино, где на вопрос Вяземски любит ли он ее, он отвечает, мол, сейчас не до любви — революцию делать надо! Ну или во время оральных ласок Жан останавливается для того, чтобы... начать говорить о Мао. Бедная Анна! И смех, и грех, и неимоверная тупость). Годар еще и становистя максимально комичным персонажем — все постоянно пробуют разбить и растоптать его очки, сказать, что ему лучший фильм — это "На последнем дыхании", ну и т. д. Словом, я не увидел Годара. Я увидел великовозрастного подростка, или, простите за вульгарность, "малолетнего дебила" (с). Жан-Люка там нет. И весь Годар киношный расходится с теми воспоминаниями, которые о нем есть. И еще будут — благо, революционный киногений до сих пор жив.
И знаете, что самое любопытное и ироничное? Жан-Люк выглядит как те молодые недореволюционеры, которые показываются им в "Китаянке". Только у годаровских ребят еще есть потенциал для роста. У Годара из "Молодого Годара" такой возможности нет. Он обречен ограниченностью своей пылкости, ну и идеологизированности до самого одномерного агитпропа КНДР. А вообще сам фильм, его сюжет, ну очень, очень и ОЧЕНЬ сильно напоминают повествование "Китаянки". Мне даже кажется, что в оригинальном названии, "Le redoubtable", можно увидеть и "redoublement" — повторение. Или буквально английское "redouble", "повторение". Ну или тут я уже перегибаю палку.
В любом случае, в принципе, фильм посмотреть можно. Он красивый. Луи Гаррель и Стэйси Мартин молодцы. Анне Вяземски от Стэйси действительно веришь, она обаятельна, выглядит трагически обманутый "Грозным" Годаром. Картина снята красиво. Там есть очень много отсылок на многие другие фильмы Годара, что подмечает Корнев. Там есть правдивые сцены из французской жизни тех лет. Но это чрезмерно идеологизированное кино. Гораздо более идеологизированное, чем у Жан-Люка настоящего. Пусть и радикала. Ведь он размышляет при помощи кино. И призывает вместе с ним мыслить и зрителю. А здесь все уже готовенькое, и ходы годаровские по происхождению тут максимально формализованные. Пусть и красочные.
Вышел не реализм о реалисте, а фэнтези о каком-то чуть ли не "попаданце" из одноименной русскоязычной литературы. Это забавно, любопытно, но не то.
В общем, в жанровую тематику нашего сообщества попадает фильм, хэх.


 облако тэгов
облако тэгов